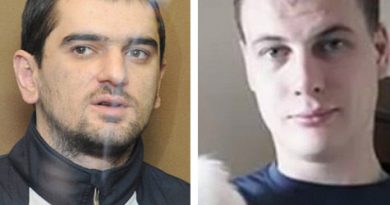Я — сепаратист
Мы продолжаем публикацию цикла статей на тему «чеченского перелома». Речь идет о тех значительных изменениях, которые произошли и происходят в чеченском обществе. Эти перемены связаны с попытками сформулировать новые идеи и проекты, которые лягут в основание будущей чеченской государственности. Сергей Маркедонов, статьей которого «Фантомный сепаратизм» мы открыли цикл, отрицает за сепаратистской доктриной всякий актуальный, востребованный чеченцами идеологический потенциал. В публикукуемой ниже статье правозащитника Усама Байсаева изложена противоположная точка зрения, суть которой кратко можно изложить следующим образом: сепаратизм не мертв, он вытеснен из публичной политики, из сферы дозволенного, но продолжает оставаться источником надежд в умах и сердцах большинства чеченцев.
ЧЕЧНЯ, 13 июня, Caucasus Times — Есть вопросы, способные загнать в тупик. Любого, меня тем более. Я не политолог и не аналитик и, соответственно, не владею даром рассуждать часами о чем-то, что, как правило, к делу имеет лишь отдаленное отношение. Поэтому хотелось бы получить четкий вопрос, на который можно было бы дать столь же четкий ответ.
Что означает: «Актуален ли сепаратизм?..» Во-первых, актуален для кого, для российской власти и ею сформированным местным структурам или же для тех, кто воюет? А, может, вопрос адресован международным функционерам, тем, кто определяет, скажем, мировую политику и вьющимся вокруг них журналистам, опять же политологам, аналитикам всяким? Я так полагаю: в этих рассуждениях простой человек или совокупность «простых человеков», что по-другому означает народ, если и занимает какое-то место, то самое последнее.
Во-вторых, сам этот термин. Какой в него в данном случае вкладывается смысл, что-то осязаемое или только виртуальное? Если речь идет о сепаратизме в качестве идеи, красивой мечты или даже фантазии, которой подвержены пусть и не все, но определенное количество людей, то это одно. Но когда мы говорим о практике, механизме достижения независимости, в случае Чечни вылившимся в две опустошительные войны, получается все же нечто немного иное. Так о чем и применительно к кому идет речь?..
Ни для кого не секрет, что ни одна из межгосударственных организаций, в той или иной степени вовлеченная в процесс якобы разрешения конфликта на Северном Кавказе, право чеченцев на создание независимого государства не признавала. Не признает и сейчас, да и в будущем вряд ли это случится, если не произойдет чего-то экстраординарного. На мировой шахматной доске мы значим меньше, чем даже пешки. Так, всего лишь пыль, которую обычно смахивают перед началом игры.
Богом данные права против газа и нефти России, разве это соотносимые вещи? Они даже, как говорится, не из одной оперы. И потому жалкий лепет о страданиях народа, о многих тысячах жертв, принесенных на алтарь этой самой свободы, не актуален как-то, не катит. А энергоресурсы, цены на них, пути транспортировки — вопросы более чем актуальные. Ведь это деньги и благополучие очень и очень многих людей во многих странах. Ну и в довесок, естественно, лишние голоса избирателей в электоральных копилках возглавляющих их лидеров. А иногда, поехидничаю немного, и звон монет в весьма высокопоставленных карманах.
В том, что происходило в Чечне, Запад всегда беспокоили не все, а крайние формы геноцида (когда мы сообщали об обнаружении какого-то захоронения правозащитники из-за бугра, например, и те спрашивали: «сколько там трупов, пятьдесят будет?»), не соблюдение основополагающих норм, которые, как считается, заложены в основу функционирования «цивилизованных» государств. Нехорошо как-то, когда главный твой партнер, тот, с кем непременно хочется сотрудничать, от которого есть польза и немалая, ведет себя, фу, и все такое прочее, не совсем адекватно, грубо отрицая заявленные тобой на весь мир принципы и ценности. Отсюда и критика российских руководителей, часто похожая на просьбу не позорить не только себя, свою страну, но и нас, бедных и сирых, подсевших на газовую иглу и не желающих с нее слезать.
В итоге геноцид прикрыли несколькими слоями покрывал из псевдореферендума, трех псевдовыборов и, опять же, псевдопередачи властных полномочий лояльным местным жителям. И хотя наружу временами все равно вырывается правда об убийствах, похищениях и грабежах, одного этого оказалось достаточно, чтобы поубавить тон критики и забыть о Чечне окончательно. Она ведь и раньше была не особо важной темой. Вспомним, что позиции, если они и были, относительно происходящих на Северном Кавказе событий западные страны стали сдавать не только до Норд-Оста и Беслана, но еще задолго до 11 сентября. Тогда еще, когда норд-осты и бесланы устраивались исключительно против чеченцев.
Актуален ли сепаратизм для самой России? И да, и, одновременно, не очень. В плане регулирования общественно-политической ситуации — весьма даже удобная вещь. Но если речь идет о таком давлении на государство, при котором оно вынуждено было бы отпустить Чечню на все стороны, то и случившееся в 1996 г. является, скорее, курьезом. В большинстве своем чеченцы и сами были ошарашены этой победой, не сразу поверили в нее. «Головокружение от успехов» началось позже, ничем, кстати, не оправданное и не подкрепленное.
Катастрофическая разница в вооружении и численное превосходство (в отдельные периоды в республику загоняли столько войск, что их количество было сопоставимо с количеством местных мужчин всех возрастов) позволяет российской стороне определять ход кампании и методы, которыми она ведется. И чеченское сопротивление никак не может на это повлиять. Сепаратисты были и даже сейчас, наверное, в состоянии организовать успешную боевую операцию или серию из разных операций, совершить шумную акцию и, к сожалению, теракты тоже. Но изменить кардинальным образом ситуацию только лишь военными средствами они все же не могут.
В этом отношении для России в целом и ее руководства в частности — сепаратизм сегодня, как и вчера, не вполне актуален. Граждане в других регионах государства жили полноценной жизнью еще в то время, когда в Чечне шла полномасштабная война: ходили на концерты, в кино, женились и работали и вспоминали о продолжающемся кровопролитии где-то там, на юге, когда смотрели и слушали новости или же, если в их населенный пункт привозили трупы погибших. А сейчас тем более это никого не беспокоит, война-то официально объявлена завершенной. Словом, какой сепаратизм? Так себе, отдельные происки бандитов и террористов и больше — ничего!
Думаю, и меня можно отнести к интеллигентам. По крайней мере, вид соответствующий: выгляжу хлюпиком, да и занимаюсь не очень обременительным трудом. И как всякий представитель этой славной когорты людей частенько задумываюсь о будущем народа, о том, что происходит с нашим языком и культурой, традициями и обычаями, и эти мои размышления почти всегда приводят к печальному выводу. Не пускаю при этом слезу только потому, что я — чеченец. Впрочем, для очень многих как раз данное обстоятельство и является синонимом врожденной неполноценности, чего уж там говорить об интеллигентности.
Так вот, если хотим сохранить национальную и культурную идентичность, твердо в этом уверен, нам надо отделяться от России. То есть, получается, что я — сепаратист.
Соседка моя, напротив, не витает в облаках, ее интересует, что подать сегодня на обед, во что одеть детей и в какую школу определить старшего сына, которому уже с этой осени грызть гранит науки. У нее нет каких-то ярко выраженных политических убеждений. Но как мать она просчитывает будущее своих чад куда лучше любого мужчины. Ей известны факты чеченской истории и потому понимает, что пережитое самой, родителями, родителями ее родителей и так до седьмого, как у нас говорят, отца, самым неожиданным образом в любой момент может обрушиться и на них тоже. Все ведь под Россией ходим и неизвестно, что она отчебучит лет, скажем, через десять. А вдруг и тогда на подходе окажется какой-нибудь преемник, которому надо срочно поднимать рейтинг. И на кого посыплются бомбы, кого станут зачищать? Обычно в качестве подопытных кроликов выступали чеченцы, кто даст гарантию, что в этом случае все будет по-иному?..
Путем несложных умозаключений, основанных на личном опыте и опыте предыдущих поколений, моя соседка пришла в итоге к тому же, что и я: было бы неплохо отделиться и создать свое государство. Логика другая, легшие в основу размышлений исходные данные — тоже, а результат аналогичный.
Другими словами, и для нее, и для меня сепаратизм — есть вопрос национально-культурного и просто физического выживания чеченцев. И в этом смысле он актуален, как был актуальным вчера и будет, если что-то не изменится, завтра тоже.
Смею утверждать (доказать не могу, никто социологических опросов не проводил), что схожие мысли бередят души многих жителей республики, в не зависимости от того, чем они занимаются. Приведу такой пример. Ровно год назад мне пришлось принимать участие в работе т.н. гражданского форума в Москве. В качестве наблюдателя туда был приглашен и очень высокий гость из Европы, якобы занимающийся правами человека. В помощниках у него не по годам образованный, подтянутый, очень хваткий по части карьеры (говорю это без подковырки) молодой чеченец. Сидел он позади меня, поэтому во время спора с коллегами, который очень напоминал тему данного диспута, я повернулся к нему и спросил, считает ли он, что Чечня должна быть независимой?.. Скажу коротко: ответ меня устроил. Устроил вдвойне, потому что, во-первых, получил поддержку и во-вторых, потому что молодой этот человек к «высокому гостю из Европы» приставлен по согласованию с российским правительством. Исходя из сепаратистской системы координат, его нужно считать коллаборационистом, предателем, мунафиком и т.д. Ан, нет, оказалось, что в нем бурлит что-то, что для народа делает его не совсем потерянным.
Или другой случай, его рассказала наша сотрудница. Совсем недавно, даже так: буквально на днях она посетила учреждение, которое у нас в республике зовется парламентом. На ее предложение создать комиссию, которая, проведя независимое расследование обстоятельств похищений людей, поставила бы вопрос о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц, которые создали условия для совершения этих преступлений или им потворствовали, один из «народных избранников» брякнул: «Ты же предлагаешь развалить Россию!». Наша сотрудница парировала, что по сравнению с судьбами людей это, мол, волнует ее в последнюю очередь. Из присутствующих кто-то хихикнул, кто-то смущенно опустил глаза, кто-то просто промолчал, а один, видимо, самый смелый, обиженно пробурчал: «Можно подумать, что нас это сильно волнует»
Получается, захожу с другого конца, целостность российского государства даже для людей, которые ему тут у нас служат верой, вроде бы, и правдой, тоже не всегда является приоритетом, это, выходит, для них не самое главное, не актуальное? А что тогда?..
В ответе на этот вопрос и кроется вся шаткость построенной Россией в Чечне конструкции. Разбомбив все, что только можно было разбомбить, разгромив большую часть противостоящих им отрядов сепаратистов и загнав в горы оставшиеся, она вынуждена опираться не на народ, и даже не на политически мотивированных союзников, а на тех, кто в первую очередь интересуется личным благополучием. И это отнюдь не только мой вывод.
Говоря о чеченцах, о том, что здесь происходит, многие из аналитиков исходят из непонятно откуда взятого предположения, будто мы все должны придерживаться какой-то одной точки зрения. Как стадо какое-то, свистнул и все побежали, свистнул во второй раз и остановились. Пора привыкнуть, что мы — разные. Кто-то сепаратист, а кто-то нет, среди нас имеются в наличии истинно верующие и те, кто не верит ни во что, хамы и по-европейски воспитанные люди (последнее для кого-то, подозреваю, будет большим открытием, но все же это так). Поэтому за очередным глашатаем чего-то такого стройными рядами чеченцы не пойдут. Тем более на пушки. Раньше тоже не шли, были даже те, кто шел под прикрытием пушек. И это факт, нравится он кому-то или не нравится.
Предположим гипотетически, что Россия когда-нибудь захватит Америку (не дай Бог, конечно!). Найдется определенное количество граждан этой страны, которые, думаю, пойдут на сотрудничество. И таких будет тем больше, чем более убедительным будет поражение их армии и правительства. Жить-то хочется и, желательно, хорошо. Подленькое это чувство, как известно, особенно обостряется, когда вокруг все плохо. В случае же полной капитуляции (и чего только не несу?!) наступит момент, когда население вынужденно будет смириться с новой для себя ситуацией. На первый план выступят вопросы выживания, восстановления квартир, домов и, если дадут, все побегут за компенсациями. Естественно, главной валютой станет рубль, всемогущий и вожделенный, ради которого начнется гонка вверх по оккупационной (термин юридический, не придираться!) карьерной лестнице.
Вопрос: для какого процента этих людей будет актуальным сепаратизм как политический проект?..
Но это из области глупых фантазий, обратимся лучше к истории. Кто-нибудь посчитал соотношение тех, кто воевал за освобождение Франции от немецкой оккупации, и тех, кто не посчитал для себя зазорным служить третьему рейху? Про маршала Ф. Пэтена знают все, а, интересно, сколько было пэтенов помельче, и что делали в это время остальные французы? Почему-то мне, кажется, что многие из них пытались просто выжить, сохранить детей, запрятав на время глубоко, а некоторые и очень глубоко, патриотизм и желание восстановить суверенитет своей любимой и исстрадавшейся родины. И это вполне понятное стремление. Вполне — человеческое, хотя и не совсем гражданское.
Пример с Францией, могут возразить мне, не совсем корректный. Это страна с многовековой историей независимого существования, а ты, мол, сравниваешь ее с какой-то там Чечней. И в довершение попытаются поразить своей осведомленностью, заявив, что все замутил нежданно-негаданно свалившийся на нас с неба Дж. Дудаев.
Давайте поговорим об этом. А то поставил слишком много вопросов, а ответов так и не дал. Многие же из них кроются в истории, в прошлых обидах и, увы, преступлениях.
Начну с того, что, как мне кажется, история — самая субъективная из всех наук. Каждый пишет ее, сообразуясь со своими интересами. Наверное, в учебниках истории, изданных в Германии и той же Франции сказанное про Эльзас, будем корректны, не совсем во всем сходится. Европа, она цивилизованная и до откровенной лжи или подтасовки фактов там, видимо, все же не опустятся. Но расхождения будут точно.
Мы же — другое дело. Сколько раз у нас переписывалось прошлое в угоду политическим амбициям власть предержащих? Много, так много, что учебники переиздавать не успевали, замарывали чернилами страницы и фотографии и продолжали учить по ним же. Так вот, когда было разрешено наши историки и деятели культуры (я говорю и о некоторых чеченских тоже) бросали на стол одни факты, а другие, как заправские шулера, прятали в рукаве. При изменении политической конъюнктуры проделывали все в обратном порядке. Приведу пару примеров.
После выселения чеченцев и ингушей основательной встряске подверглась история национально-освободительной борьбы горцев Северного Кавказа. Имам Шамиль был объявлен английским шпионом, а само движение — реакционным и антинародным. Известный поэт Р. Гамзатов откликнулся на это проникновенными строками, среди которых были и про «чеченского волка» и «ингушскую змею», которых, оказывается, пригрела у себя на груди Россия. Дальше что-то там еще такое, не помню всего, пишу ведь по памяти, но кончалось это призывом к выселенным двум народом забрать с собой «и своего Шамиля». Тогда он его нам подарил, а потом извинился и забрал обратно. В процессе раскаяния написал даже целую поэму, в которой доказывал не случайность появления такого великого человека именно в аварской — даже не общедагестанской — среде. Отнял, так отнял!
Или М. Блиев, есть такой историк в Осетии, большой, между прочим, знаток вайнахов (чеченцев, соответственно, и ингушей). Настолько большой, что в недавней своей статье в газете «Северная Осетия» ( 89-90, 22-23.0507 г.), пытаясь объяснить покушение на М. Зязикова и захват школы в Беслане, заявил, что это выброс вовне межингушских противоречий выражающихся в борьбе между собой двух якобы тейпов: «неки» и «гари». Он, видимо, не в курсе, что тейпов с такими названиями ни в Чечне, ни в Ингушетии нет, и не было отродясь. Но зато каждый тейп делится на неки и гари (будем использовать его транскрипцию) и в каждом из них таковых может набраться с десятка три, а то и во много раз больше. Интересно, неки и гари какого тейпа борются друг с другом, а, может, все проще: неки всех тейпов вдруг обиделись и разодрались с гари тоже всех тейпов? Сложно, очень сложно бывает иногда понять ход мысли зубров от науки.
Таким же проявлением шулерства могу объяснить, например, утверждения, что в XIX веке чеченцы в меньшей степени были вовлечены в процесс противостояния России, чем другие. Напомню, что первым, кто начал войну под религиозным флагом и объединил на короткое время почти все народы не только Кавказа, но и предкавказских степей (даже астраханские казахи приняли его как имама) был все-таки Ушурма из Алдов, известный как шейх Мансур. Это в честь него назвали когда-то грозненский аэропорт. При обороне крепости Анапа в июне 1791 г. раненым он попал в плен и через три года умер в Шлиссельбургской крепости.
Еще до появления первых дагестанских имамов борьбу чеченцев за свою землю возглавлял Тайми Байболт (в русских источниках проходит как Бейбулат Таймиев) Это про него в своем «Путешествии в Арзрум» писал А. Пушкин: «Славный Бейбулат, гроза Кавказа» В качестве военного руководителя, избранного на этот пост Советом страны (Мехкан Кхел), он искал пути бесконфликтного сосуществования с оказавшейся вдруг рядом Россией. Вел переговоры с представлявшими ее генералами, воевал с ними, вступал в новые переговоры и снова воевал. После его гибели в 1831 г. руководство национально-освободительным движением перешло в руки чеченского духовенства, наибольшим авторитетом среди которого тогда пользовался Ташу-Хаджи Саясанский. В народе помнят этого человека под именем Вокха Хьажа (Большой Хаджи), а его могила до сих пор является местом поклонения.
Именно Ташу-Хаджи и его ближайшие сподвижники: Иса из Гендергеноя, Джаватхан из Дарго, Шуаиб-мулла из Центароя, Улубий из Ауха и др., в марте 1840 г. в Урус-Мартане заставили чеченцев признать своим имамом изгнанного жителями Дагестана Шамиля. В течение последующих полутора-двух лет под его власть были возвращены Авария, Салатавия, Андия и т.д.
Впрочем, это отступление — всего лишь курс ликбеза. Вернемся к предмету диспута. Были ли в истории русско-чеченских взаимоотношений периоды сотрудничества, периоды относительной друг к другу терпимости? Были, хотя и не очень много, и длились они все же не так долго.
Первым таким периодом, периодом надежд, можно назвать 1859 г., когда князь Барятинский от имени царя обратился с прокламацией к чеченскому народу. В обмен на возвращение захваченных на плоскости лесов и земель, неприкосновенность религии, обычаев и утвердившегося в крае шариата в нем предлагалось прекратить войну. На фактическое предложение об автономии изможденное десятилетиями кровавых столкновений население, может, и не охотно, но откликнулось. После окончательного отхода Чечни, а это случилось в июле 1859 г., когда народные представители, среди которых были и бывшие наибы, явились в крепость Грозную и поздравили царского наместника с окончанием войны, имам Шамиль продержался всего лишь чуть больше месяца. Это, кстати, к вопросу о вовлеченности и роли чеченцев в Кавказской войне.
Но «первая чеченская автономия» в составе России кончилась, так ни во что и не оформившись. Уже в мае 1860 г. восстали крестьяне восточной Чечни и Шатоя, возмущенные продолжавшимися изъятиями земель и не выполнением обещаний, данных в прокламации. Бои с переменным успехом продолжались в течение почти двух лет.
До первой русской революции было еще несколько крупных чеченских выступлений и почти непрекращающееся партизанское и абреческое движение. В ответ сыпались репрессии, спокойствия или, как сказали бы сейчас, толерантности не было и в помине.
В период гражданской войны чеченцы, действительно, выступали в союзе с большевиками. Но почему это случилось? По очень простой причине: было продекларировано право народов на самоопределение, обещали вернуть захваченную при царизме землю и, ко всему прочему, у них появились общие враги в лице казачества и белого движения, пытавшихся реставрировать прежний режим.
В мае 1918 г. светские лидеры горских народов, во главе которых был чеченец А.-М. Чермоев, объявили об отделении от ставшей вдруг советской России и создании Республики горцев Северного Кавказа. Ее тут же признала Турция, переговоры о том же велись с Германией. Однако это, в том числе и антибольшевистское государственное образование разгромили другие ярые враги большевиков — части Добровольческой армии генерала А. Деникина.
Природа не терпит пустоты и летом того же года в горах Чечни и Дагестана возникает теократическое государство под названием Северокаказский эмират во главе с шейхом Узун-Хаджи, который провел десять лет на царской каторге и ненавидел все русское. Вот с ним-то большевики и вступили в тесный союз. Настолько тесный, что остатки красноармейских отрядов из Грозного и Владикавказа были отданы под командование чеченских и дагестанских, как бы сейчас сказали, радикальных полевых командиров.
Именно узун-хаджинцы освободили от деникинцев горную часть Чечни, Дагестана, Ингушетии, а весной 1920 г. еще до подхода основных частей Красной Армии очистили Грозный, восстановив в нем из союзнических побуждений власть ревкома. На свою же, как выяснится потом, и голову.
Узун-Хаджи через несколько месяцев неожиданно скончался. Он не дождался конца переговоров о признании своего государства, которые вели с большевиками делегированные им представители. Полагают, что он был отравлен. Главу правительства эмирата застрелили на улице Грозного, как было официально объявлено, бандиты.
С конца лета-начала осени 1920 г. Чечня снова в огне, горцев возглавил внук Шамиля Саид-Бек. Большевики, власть которых на Северном Кавказе была все еще иллюзорной и которых не прельщала перспектива ввязаться в новую войну, вынуждены были приступить к выполнению данных ими прежде обещаний: в район Минеральных вод были переселены пять казачьих станиц. В ответ на это выборные чеченские представители приняли участие в работе I съезда народов Терской области, на котором было объявлено о желании советского правительства создать Горскую советскую республику. Чеченцы дали согласие в январе 1921 г. после принятия ряда своих условий. Они потребовали, чтобы а) основными законами будущего образования были шариат и адаты; б) центральное правительство не вмешивалось во внутренние дела горцев и в) продолжалась политика возвращения отобранных у них земель.
Горская советская республика, кроме своего названия, ничего общего с пролетарской, большевистской властью не имела. Об этом хорошо сказано у А. Авторханова в его статье «Народоубийство в СССР: убийство чечено-ингушского народа». Интересующихся отсылаю к ней, но, учитывая, что труд этот все-таки не претендует на фундаментальность (посвящен совершенно конкретному поводу, а именно — депортации), посоветую прочитать еще что-нибудь, но более основательное. И тогда выяснится, что в мае 1922 г. войска Северо-Кавказского военного округа начали в Чечне операции «по разоружению населения», очень напоминающие современные «зачистки»: с блокадой сел и аулов, предъявлением ультиматумов о выдаче оружия и «бандитов», с обстрелами жилых массивов и взятием заложников. В случае отказа предусматривалось и уничтожение «непокорных аулов».
Наиболее масштабная операция такого рода прошла в августе-сентябре 1925 г. «Зачистке» подверглись более 200 сел, половина которых ощутила на себе силу артиллерийских ударов, а 16 — авиабомбардировок. Хрупкий мир был нарушен. Чеченцы опять вступили «на тропу войны». Антисоветские восстания стали непременным атрибутом жизни автономной тогда уже области.
Новый взрыв вызвала коллективизация. Восставшие чеченцы избрали правительство и выдвинули перед советской властью ряд требований, главными из которых были восстановление в автономии судопроизводства на основе шариата и адата, прекращение конфискации имущества и арестов людей, а также не вмешательство центральных властей во внутренние дела области. В ответ были стянуты войска, снова бои и снова восстания.
Репрессии 1937-1938 гг. нигде не привели к вооруженному противостоянию с властью, а вот чеченцы снова отличились. Ответом на государственный террор стало резко усилившееся повстанческое движение. В абреки ушли сотни и тысячи людей. В 1940 г., в то время, когда нацистская Германия была еще союзником Советского Союза, их возглавил дважды успевший побывать в застенках НКВД писатель Х. Исраилов. В течение одного только года он освободил всю горную часть Чечено-Ингушетии от советской власти. В ответ применялась авиация.
Вот вкратце предыстория депортации. Никакого отношения к сотрудничеству с немцами в годы Отечественной войны она, естественно, не имела. Все было намного прозаичнее: советская власть ущемляла чеченцев, чеченцы восставали и требовали соблюдения своих прав. Брали в руки оружие тогда, когда не брать его уже было невозможно. Кто-то посчитает, что это глупо, а кто-то, наоборот, одобрит. Не знаю, что и лучше, только, подозреваю, оценка эта в значительной степени будет зависеть от внутренних качеств самого оценщика…
Подвожу итог советского «мирного периода». Не было там никакой толерантности и доброго сосуществования — это первое. На уровне отдельных людей или даже групп людей, в том числе и разной национальности, то да, быть может. Но вот государства с одной стороны и чеченцев как народа с другой — нет. И второе, все выступления чеченцев против власти сопровождались предъявлением политических требований и в ряде случаев эти требования явно уж попахивали сепаратизмом.
Если сейчас спросить более-менее взрослого жителя республики, по какому времени ностальгирует, то в девяти случаях из десяти в ответ можно будет услышать, что по брежневскому. И в этом, вряд ли, он будет оригинален. В любой части бывшего Советского Союза о том времени у многих остались приятные воспоминания. Не только у чеченцев. И в застое была своя прелесть: впервые власть тебя не трогала, если ты не трогал власть.
Но были и те, кто трогал. Не очень много и не везде, но были. В Чечено-Ингушетии тоже нашлись. Власти, точнее ее представители в автономии, вдруг озаботились историческим прошлым вверенного им народа. Как же так, везде все к русским тянулись, а эти, что — нет? Непорядок, срочно исправить! И на свет появилась «концепция о 200-летии добровольного вхождения чеченцев и ингушей в состав Российского государства». Случилось это, выходило, еще в 1782 г., за три года до первого организованного выступления горцев под религиозными лозунгами. И как это шейх Мансур газават умудрился родине-матушке объявить?..
Против антинаучной концепции открыто выступили только три человека и были тут же уволены. До перестройки они не могли заниматься научной работой. Кто знал об их смелом поступке? Думаю, что немногие. Как немногие знали о диссидентах в других частях страны или о тех, кто вышел на Красную площадь в знак протеста против вторжения советских войск в Чехословакию. Между прочим, это самый известный случай проявления гражданского мужества в те времена. Кстати, сколько их на самом-то деле было? Немного: больше, чем пальцев на одной руке, но меньше, если не ошибаюсь, чем на двух.
В Чечено-Ингушетии существовало еще и литературное объединение «Прометей», пытавшееся изменить отношение к родному языку в республике и выступавшие против политики русификации. Его разгромили, один из членов этого объединения погиб при весьма странных обстоятельствах.
В «Прометей» входил и З. Яндарбиев, поэт, бывший и.о. Президента ЧРИ, взорванный в Катаре. Вот вам и связь между нынешним чеченским сепаратизмом и советским диссидентством. Доказывает ли это существование проекта чеченской независимости, над составлением которого, выясняется, годами и при свечах должны были сидеть диссидентствующие мудрецы? Если кому-то хочется, пусть будет так. А если нет, то, что это меняет?
До 1976 г. на сотрудников госбезопасности Чечено-Ингушетии совершал нападения известный абрек Х. Магомадов. Видимо, в перерывах между основным занятием он разрабатывал для будущих сепаратистов тактику и стратегию партизанской войны. Даже очень возможно, почему бы и нет?
Тех же, кто регулярно подрывал в Грозном памятник душителю чеченцев генералу Ермолову, исходя из той же логики, следует считать составителями инструкций для будущих террористов. Занятие у них, между прочим, весьма схожее, связанное с взрывами.
«Революция» 1991 г. не была исторической случайностью. Она естественным образом выросла из того маразматического состояния, в котором вынуждено было пребывать чеченское общество. Обратимся (мазками, конечно, так как это отдельная тема для разговора) к Чечено-Ингушетии 70-80-х гг. XX столетия. Численность коренного населения республики в те времена составляла более 70 %. Тем не менее членами областного комитета КПСС (руководящего органа на ее территории) на 60 % были русские. На нефтедобывающие и перерабатывающие предприятия Грозного и связанные с ними другие производства, чеченцев и ингушей не принимали. В силу этого значительная часть местного населения не имела легальных источников дохода. В поисках заработков люди вынуждены были уезжать. И не только на сезонные работы, но и на постоянное жительство. К 1989 г. доля живущих на своей родине чеченцев составляла 76.6 % от их общего числа, снизившись за десятилетие на 4-5 %.
При колоссальной тяге к своему языку (общесоюзные переписи населения свидетельствуют об этом лучше всего), сфера его применения была искусственно сужена. На национальном языке в республике полагалось иметь только одну газету, один литературный и детский журналы, а региональные газеты (т.е. районные) должны были верстаться таким образом, чтобы в каждом номере на русском было бы не менее 70% материалов. В сельских школах на чеченский и ингушский языки отпускалось меньше времени, чем на изучение иностранных. В городах их вообще исключили из программы.
Были табуированы целые пласты из истории коренного населения. И не только периода депортации, но и Кавказской войны, становления советской власти. Если что и дозволялось публиковать, то с позиций самобичевания: какие мы серые и сирые, спасибо России, что спасла нас!
Была ли эта власть родной, признавали ли ее чеченцы как свою? Лучшим ответом на этот вопрос является существование в Чечено-Ингушской республике того времени параллельного (на основе адатов и, между прочим, все того же шариата) судопроизводства. Все споры, начиная от бытовых и кончая убийствами, люди пытались разрешать в обход советского УК и УПК. Потому что не было к власти ни доверия, ни любви. И поэтому еще до появления на небосклоне Д. Дудаева, о необходимости восстановления национальной независимости сначала в рамках СССР, а потом и в качестве отдельного государства заговорили различные политические силы республики.
Чтобы в очередной раз подчеркнуть ущербность чеченского сепаратизма часто приводится такой аргумент: мол, и конституция у них скопирована то ли с Эстонской, то ли Латвийской. А так ли много разновидностей современных конституций мы знаем? Ну для парламентской республики — раз , президентской — два, а дальше. А дальше вспомнить уже трудно. В этом случае, мой совет, обратитесь в Еврокомиссию, там у них комитет (или служба, уточнить никакого труда не составит!), в котором пишутся конституции для разных там стран. Да, к тому же, еще и по заказу, и даже, кажется, за плату.
Но это Европа, у них там всякие свои прибамбасы. Вернемся лучше в Россию и напряжемся, вспоминая, а по чьим же это лекалам составлен основной закон страны? Думается, что без мерзопакостного влияния империализма в самом зверином его проявлении тут точно не обошлось. По крайней мере, именно это обстоятельство широко используется теми, кто выступает за продление полномочий главы государства или снятие пункта о невозможности занимать этот пост более двух сроков подряд. А причем тут Чечня? В том-то и дело, что ни причем.
Скажу напоследок про Советский Союз. При всем том, что мы знаем о нем, при тех жертвах, которые были принесены на алтарь мифической, как теперь выяснилось, идеи — это удачный проект? Если кто-то скажет, что да, то я — пас! Дискутировать не о чем.
Пойдем дальше. Нынешняя Россия — она что, тоже удача? Ведь при любой попытке демократизироваться она сталкивается с одним и тем же — угрозой распада. Ладно бы чеченцы одни шалили, так нет, кажется, и русские области чего-то там тоже между собой понастроить пытались. Таможенными постами все это называлось. Вот и приходится сегодня бедному люду, сглотнув в огорчении слюну, делать ручкой вслед и всенародным выборам, и независимому суду, и свободе слова вместе с выражением собственного мнения. Да мало ли еще чему, главное, чтобы государство жило, пусть бедное, но зато большое.
Вообще-то все эти разговоры об актуальности или неактуальности сепаратистского проекта сегодня немного некорректны. Когда слышу их, я представляю себе детину, который ухватил за шею какого-то бедолагу, потряс в воздухе, а потом, опустив на землю и наблюдая за его судорожными попытками заглотнуть лишнюю порцию воздуха, говорит: «Оказывается, ты не кушать хотел, ты хотел дышать!» Реакцию пострадавшего нетрудно предугадать, он бы от такого сумасброда отбежал куда подальше.
Желание отбежать от России присутствует в головах у многих жителей Чечни. И не важно, что именно в данную конкретную минуту им приходится держать в руках: автомат, мастерок или поварешку. А, может, как и у меня сейчас, они у них часто и беспорядочно стучат по клавишам компьютера. Важно, что сигнал этим самым рукам поступает из головы. Ни умные рассуждения аналитиков, ни удачно составленные проекты, ни даже международная поддержка не смогут подменить собственного опыта и сделанного на его основе вывода. По-другому, кажется, это называется национальной идеей.
Итак, подводя итоги, хочу сказать, что для российского руководства и международного сообщества чеченский сепаратизм ни в качестве политического проекта, ни даже как идея не интересен, и не актуален. Пока, по крайней мере. Для жителей Чечни он актуален хотя бы потому, что война еще продолжается. Вооруженные сепаратисты, несмотря на ряд серьезных потерь, не признали своего поражения. До того же пока этого не случится и все разговоры о неактуальности сепаратистского проекта, не скажу, что вредны, но, как минимум, преждевременны.